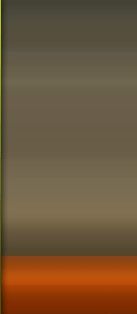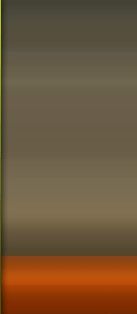ДРУЗЬЯ МОЕГО ДЕТСТВА
ЛЕСНОЕ ЭХО
Мне было тогда лет пять или
шесть. Мы жили в деревне.
Однажды мама пошла в лес за
земляникой и взяла меня с собой. Земляники в тот год уродилось очень
много. Она росла прямо за деревней, на старой лесной вырубке.
Как сейчас, помню я этот день,
хотя с тех пор прошло более пятидесяти лет. День был по-летнему
солнечный, жаркий. Но только мы подошли к лесу, вдруг набежала синяя
тучка, и из неё посыпался частый крупный дождь. А солнце всё продолжало
светить. Дождевые капли падали на землю, тяжело шлёпались о листья. Они
повисали на траве, на ветвях кустов и деревьев, и в каждой капле
отражалось, играло солнце.
Не успели мы с мамой стать под
дерево, как солнечный дождик уже кончился.
— Погляди-ка, Юра, как
красиво, — сказала мама, выходя из-под веток.
Я взглянул. Через всё небо
разноцветной дугой протянулась радуга. Один её конец упирался в нашу
деревню, а другой уходил далеко в заречные луга.
— Ух, здорово! — сказал я. —
Прямо как мост. Вот бы по нему пробежаться!
— Ты лучше по земле бегай, —
засмеялась мама, и мы пошли в лес собирать землянику.
Мы бродили по полянам возле
кочек и пней и всюду находили крупные спелые ягоды.
От нагретой солнцем земли после
дождя шёл лёгкий пар. В воздухе пахло цветами, мёдом и земляникой.
Потянешь носом этот чудесный запах — будто какой-то душистый, сладкий
напиток глотнёшь. А чтобы это ещё больше походило на правду, я срывал
землянику и клал её не в корзиночку, а прямо в рот.
Я бегал по кустам, стряхивая с
них последние дождевые капли. Мама бродила тут же неподалёку, и поэтому
мне было вовсе не страшно заблудиться в лесу.
Большая жёлтая бабочка пролетела
над полянкой. Я схватил с головы кепку и помчался за ней. Но бабочка то
спускалась к самой траве, то поднималась вверх. Я гонялся, гонялся за
ней, да так и не поймал — улетела куда-то в лес.
Совсем запыхавшись, я
остановился и огляделся кругом. «А где же мама?» Её нигде не было видно.
— Ау! — закричал я, как, бывало,
кричал возле дома, играя в прятки.
И вдруг откуда-то издали, из
глубины леса, послышалось ответное: «Ау!»
Я даже вздрогнул. Неужели я так
далеко убежал от мамы? Где она? Как же её найти? Весь лес, прежде такой
весёлый, теперь показался мне таинственным, страшным.
— Мама!.. Мама!.. — что было сил
завопил я, уже готовый расплакаться.
«А-ма-ма-ма-ма-а-а-а!» — будто
передразнил меня кто-то вдали. И в ту же секунду из-за соседних кустов
выбежала мама.
— Что ты кричишь? Что
случилось? — испуганно спросила она.
— Я думал, ты далеко! — сразу
успокоившись, ответил я. — Там в лесу кто-то дразнится.
— Кто дразнится? — не поняла
мама.
— Не знаю. Я кричу — и он тоже.
Вот послушай! — И я опять, но уже храбро крикнул: — Ау! Ау!
«Ау! Ау! Ау!» — отозвалось из
лесной дали.
— Да ведь это эхо! — сказала
мама.
— Эхо? А что оно там делает?
— Ничего не делает. Твой же
голос отдаётся в лесу, а тебе кажется, что кто-то тебе отвечает.
Я недоверчиво слушал маму: «Как
же это так? Мой же голос — и мне отвечает, да ещё когда я уже сам
молчу!»
Я опять попробовал крикнуть:
— Иди сюда!
«Сюда-а-а-а!» — откликнулось в
лесу.
— Мама, а может, там всё-таки
кто-нибудь дразнится? — нерешительно спросил я. — Пойдём-ка посмотрим.
— Вот глупый какой! — засмеялась
мама. — Ну пойдём, если хочешь, только никого мы с тобой не найдём.
Я взял маму на всякий случай за
руку: «Кто его знает, что это за эхо!», и мы пошли по дорожке в глубь
леса. Изредка я покрикивал:
— Ты здесь?
«Зде-е-е-сь!» — отвечало
впереди.
Мы перебрались через лесной
овраг и вышли в светлый берёзовый лесок. Тут было совсем не страшно.
Я отпустил мамину руку и побежал
вперёд.
И вдруг я увидел «эхо». Оно
сидело на пеньке спиной ко мне. Всё серое, в серой лохматой шапке, как
леший с картинки из сказок. Я вскрикнул и бросился назад к маме:
— Мама, мама, вон эхо на пеньке
сидит!
— Что ты всё глупости
говоришь! — рассердилась мама.
Она взяла меня за руку и храбро
пошла вперёд.
— А оно нас не тронет? —
спрашивал я.
— Не дури, пожалуйста, —
ответила мама.
Мы вышли на полянку.
— Вон, вон! — зашептал я.
— Да это же дедушка Кузьма коров
пасёт!
Услышав мамин голос, «эхо»
обернулось, и я увидел знакомую белую бороду, усы и брови, тоже белые,
как из ваты, будто их нарочно приклеили к загорелому, сморщенному, как
печёное яблоко, лицу.
— Дедушка, а я думал, ты —
эхо! — закричал я, подбегая к старику.
— Эхо? — удивился тот, опуская
деревянную дудочку — жалейку, которую он выстругивал ножом. — Эхо — это,
милый, не человек. Это лесной голос.
— Как «лесной голос»? — не понял
я.
— А так. Ты крикнешь в лесу, а
он тебе и откликнется. Каждое деревце, каждый кустик отзвук даёт. Вот
послушай, как мы с ними переговариваемся.
Дед поднял свою дудочку —
жалейку — и заиграл нежно, протяжно. Он играл, словно напевал какую-то
грустную песенку. А где-то далеко-далеко в лесу ему вторил другой такой
же голос.
Подошла мама и села на соседний
пенёк. Дедушка кончил играть, и эхо тоже кончило.
— Вот, сынок, слыхал теперь, как
я с лесом перекликаюсь? — сказал старик. — Эхо — это самая душа леса.
Что птица свистнет, что зверь закричит — всё тебе передаст, ничего не
скроет. А ты ходи по лесу да слушай его. Оно тебе всю лесную тайну
откроет.
Так я тогда и не понял, что же
такое эхо. Но зато на всю жизнь полюбил его, полюбил, как таинственный
голос леса, как песню жалейки, как старую детскую сказку.
И теперь, через много-много лет,
только услышу эхо в лесу — сразу вспоминается мне: солнечный день,
берёзы, полянка и посреди неё на старом пне что-то лохматое, серое.
Может, это наш деревенский пастух сидит, а может, и не пастух, а
сказочный дедушка-леший. Сидит он на пеньке, строгает кленовую дудочку —
жалейку. А потом будет играть на ней в тихий вечерний час, когда
засыпают деревья, трава и цветы и медленно из-за леса выбирается рогатый
месяц и наступает летняя ночь.
ПУШОК
В доме у нас жил ёжик, он был
ручной. Когда его гладили, он прижимал к спине колючки и делался совсем
мягким. За это мы его прозвали Пушок.
Если Пушок бывал голоден, он
гонялся за мной, как собака. При этом ёж пыхтел, фыркал и кусал меня за
ноги, требуя еды.
Летом я брал Пушка с собой
гулять в сад. Он бегал по дорожкам, ловил лягушат, жуков, улиток и с
аппетитом их съедал.
Когда наступила зима, я перестал
брать Пушка на прогулки, держал его дома. Кормили мы теперь Пушка
молоком, супом, мочёным хлебом. Наестся, бывало, ёжик, заберётся за
печку, свернётся клубочком и спит. А вечером вылезет и начнёт по
комнатам бегать. Всю ночь бегает, лапками топает, всем спать мешает. Так
он у нас в доме больше половины зимы прожил и ни разу на улице не
побывал.
Но вот собрался я как-то на
санках с горы кататься, а товарищей во дворе нет. Я и решил взять с
собою Пушка. Достал ящичек, настелил туда сена и посадил ежа, а чтобы
ему теплей было, сверху тоже сеном закрыл. Ящик поставил в санки и
побежал к пруду, где мы всегда катались с горы.
Я бежал во весь дух, воображая
себя конём, и вёз в санках Пушка.
Было очень хорошо: светило
солнце, мороз щипал уши, нос. Зато ветер совсем утих, так что дым из
деревенских труб не клубился, а прямыми столбами упирался в небо.
Я смотрел на эти столбы, и мне
казалось, что это вовсе не дым, а с неба спускаются толстые синие
верёвки и внизу к ним привязаны за трубы маленькие игрушечные домики.
Накатался я досыта с горы, повёз
санки с ежом домой. Везу — вдруг навстречу ребята: бегут в деревню
смотреть убитого волка. Его только что туда охотники привезли.
Я поскорее поставил санки в
сарай и тоже за ребятами в деревню помчался. Там мы пробыли до самого
вечера. Глядели, как с волка снимали шкуру, как её расправляли на
деревянной рогатине.
О Пушке я вспомнил только на
другой день. Очень испугался, не убежал ли он куда. Сразу бросился в
сарай, к санкам. Гляжу — лежит мой Пушок, свернувшись, в ящичке и не
двигается. Сколько я его ни тряс, ни тормошил, он даже не пошевелился.
За ночь, видно, совсем замёрз и умер.
Побежал я к ребятам, рассказал о
своём несчастье. Погоревали все вместе, да делать нечего, и решили
похоронить Пушка в саду, закопать в снег в том самом ящике, в котором он
умер.
Целую неделю мы все горевали о
бедном Пушке. А потом мне подарили живого сыча — его поймали у нас в
сарае. Он был дикий. Мы стали его приручать и забыли о Пушке.
Но вот наступила весна, да какая
тёплая! Один раз утром отправился я в сад: там весной особенно хорошо —
зяблики поют, солнце светит, кругом лужи огромные, как озёра.
Пробираюсь осторожно по дорожке, чтобы не начерпать грязи в калоши.
Вдруг впереди, в куче прошлогодних листьев, что-то завозилось. Я
остановился. Кто это — зверёк? Какой? Из-под тёмных листьев показалась
знакомая мордочка и чёрные глазки глянули прямо на меня.
Не помня себя, я бросился к
зверьку. Через секунду я уже держал в руках Пушка, а он обнюхивал мои
пальцы, фыркал и тыкал мне в ладонь холодным носиком, требуя еды.
Тут же на земле валялся
оттаявший ящичек с сеном, в котором Пушок благополучно проспал всю зиму.
Я поднял ящичек, посадил туда ежа и с торжеством принёс домой.
СИРОТКА
Принесли нам ребята небольшого
сорочонка… Летать он ещё не мог, только прыгал. Кормили мы его творогом,
кашей, мочёным хлебом, давали маленькие кусочки варёного мяса; он всё
ел, ни от чего не отказывался.
Скоро у сорочонка отрос длинный
хвост и крылья обросли жёсткими чёрными перьями. Он быстро научился
летать и переселился на житьё из комнаты на балкон.
Только вот какая с ним была
беда: никак наш сорочонок не мог выучиться самостоятельно есть. Совсем
уж взрослая птица, красивая такая, летает хорошо, а еду всё, как
маленький птенчик, просит. Выйдешь на балкон, сядешь за стол, сорока уж
тут как тут, вертится перед тобой, приседает, топорщит крылышки, рот
раскрывает. И смешно и жалко её. Мама даже прозвала её Сироткой. Сунет
ей, бывало, в рот творогу или мочёного хлеба, проглотит сорока — и опять
начинает просить, а сама из тарелки никак не клюёт. Учили-учили мы её —
ничего не вышло, так и приходилось ей в рот корм запихивать. Наестся,
бывало, Сиротка, встряхнётся, посмотрит хитрым чёрным глазком на
тарелку, нет ли там ещё чего-нибудь вкусного, да и взлетит на
перекладину под самый потолок или полетит в сад, на двор…
Она всюду летала и со всеми была
знакома: с толстым котом Иванычем, с охотничьей собакой Джеком, с
утками, курами; даже со старым драчливым петухом Петровичем сорока была в
приятельских отношениях. Всех он на дворе задирал, а её не трогал.
Бывало, клюют куры из корыта, и сорока тут же вертится. Вкусно пахнет
тёплыми мочёными отрубями, хочется сороке позавтракать в дружеской
куриной компании, да ничего не выходит.
Пристаёт Сиротка к курам,
приседает, пищит, клюв раскрывает — никто её покормить не хочет.
Подскочит она и к Петровичу,
запищит, а тот только взглянет на неё, забормочет: «Это что за
безобразие!» — и прочь отойдёт. А потом вдруг захлопает своими крепкими
крыльями, вытянет кверху шею, натужится, на цыпочки привстанет да как
запоёт: «Ку-ка-ре-ку!» — так громко, что даже за рекой слышно.
А сорока попрыгает-попрыгает по
двору, в конюшню слетает, заглянет к корове в стойло… Все сами едят, а
ей опять приходится лететь на балкон и просить, чтобы её из рук кормили.
Вот однажды некому было с
сорокой возиться. Целый день все были заняты. Уж она
приставала-приставала ко всем, никто её не кормит!
Я в этот день с утра рыбу на
речке ловил, вернулся домой только к вечеру и выбросил на дворе
оставшихся от ловли червей. Пусть куры поклюют.
Петрович сразу приметил добычу,
подбежал и начал сзывать кур: «Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко!» А они, как
назло, куда-то разбрелись, ни одной на дворе нет.
Уж петух прямо из сил
выбивается! Зовёт, зовёт, потом схватит червяка в клюв, потрясёт им,
бросит и опять зовёт — ни за что первый съесть не хочет. Даже охрип, а
куры всё не идут.
Вдруг, откуда ни возьмись,
сорока. Подлетела к Петровичу, растопырила крылья и рот раскрыла:
покорми, мол, меня.
Петух сразу приободрился,
схватил в клюв огромного червяка, поднял, трясёт им перед самым носом
сороки. Та смотрела, смотрела, потом цоп червяка — и съела! А петух уж
ей второго подаёт. Съела и второго и третьего, а четвёртого Петрович сам
склевал.
Гляжу я из окна и удивляюсь, как
петух сороку из клюва кормит: то ей даст, то сам съест, то опять ей
предложит. А сам всё приговаривает: «Ко-ко-ко-ко!..» Кланяется, клювом
червей на земле показывает: «Ешь, мол, не бойся, вон они какие вкусные».
И уж не знаю, как это у них там
всё получилось, как он ей растолковал, в чём дело, только вижу, закокал
петух, показал на земле червяка, а сорока подскочила, повернула голову
на бок, на другой, пригляделась и съела прямо с земли. Петрович даже
головой в знак одобрения тряхнул; потом схватил сам здоровенного
червяка, подбросил, перехватил клювом поудобнее и проглотил: «Вот, мол,
как по-нашему». Но сорока, видно, поняла, в чём дело, — прыгает возле
него да поклёвывает. Начал и петух червей подбирать. Так наперегонки
друг перед другом стараются — кто скорей. Вмиг всех червей склевали.
С тех пор сороку кормить из рук
больше не приходилось. В один раз её Петрович выучил с едой управляться.
А уж как он это ей объяснил, я и сам не знаю. |